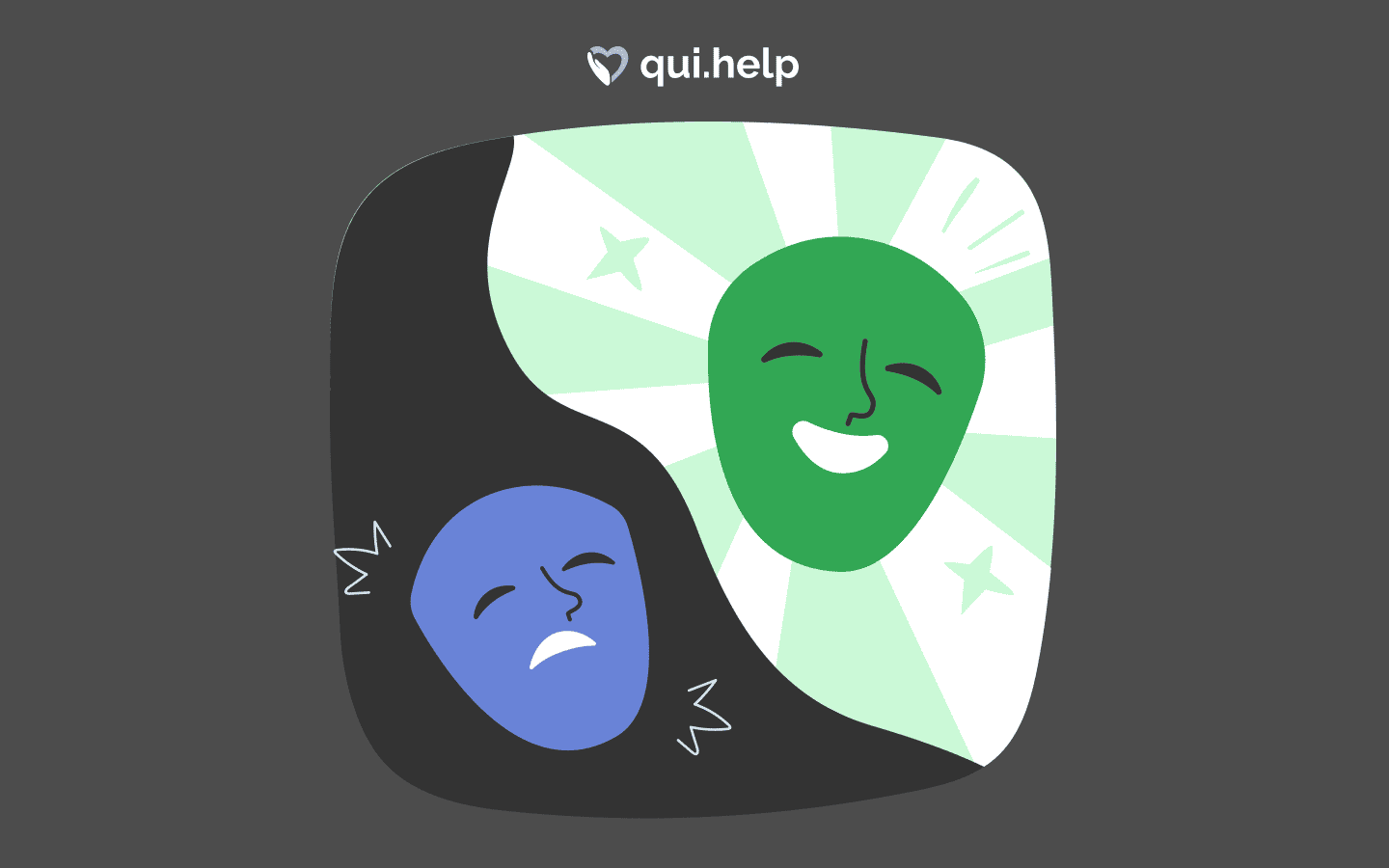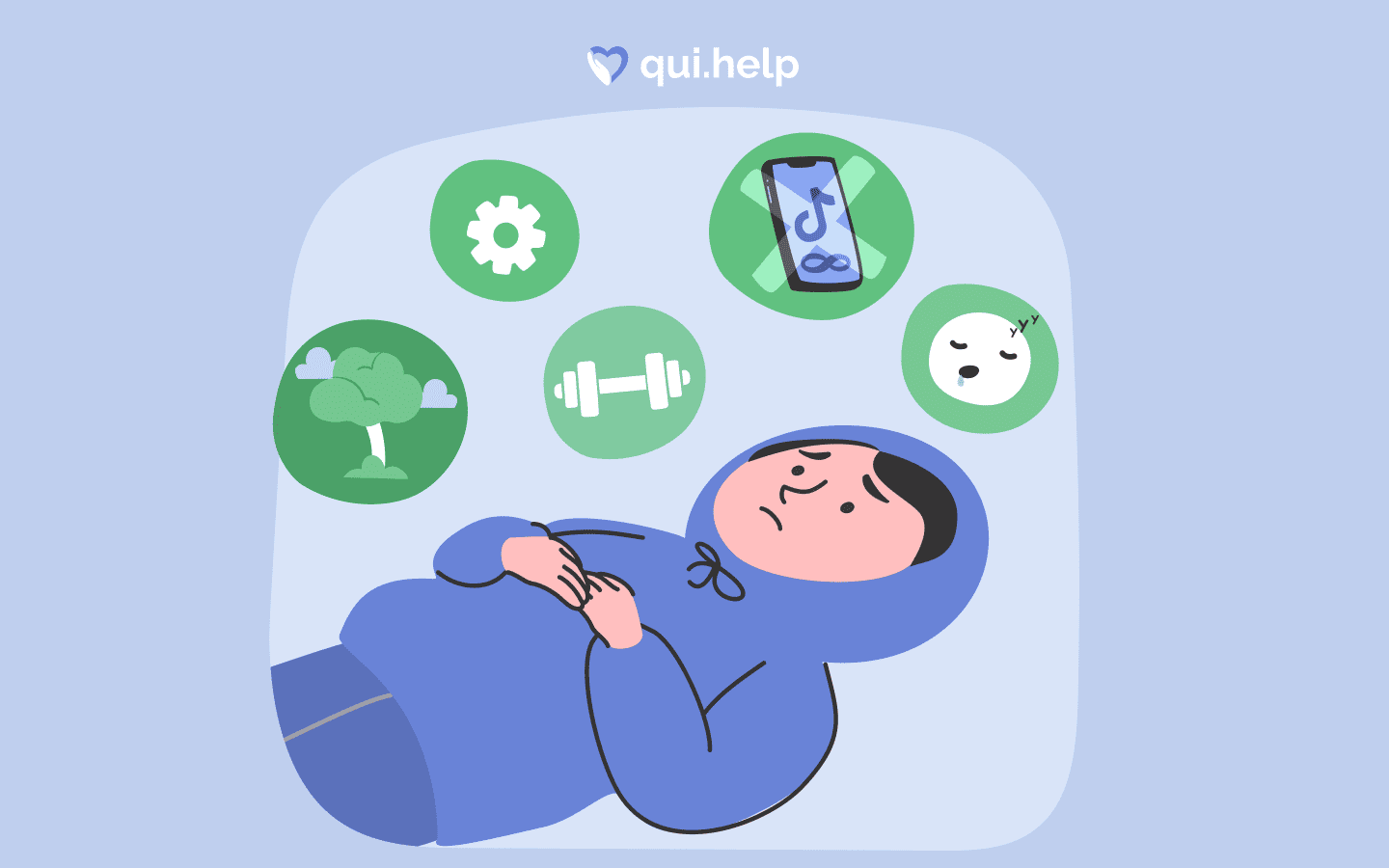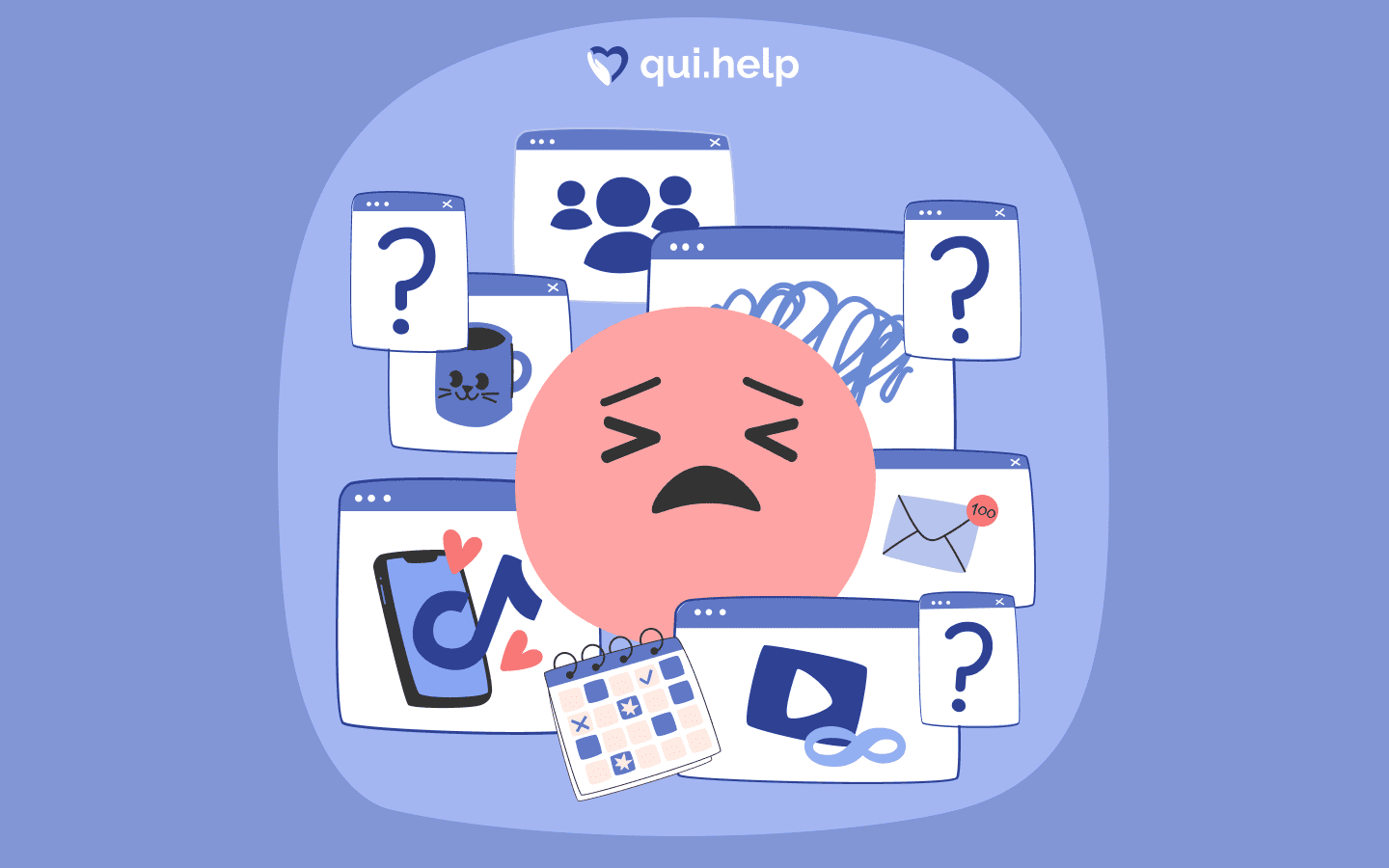Готові до змін на краще?
Знайти психологаПеречитал «Будущее одной иллюзии» Зигмунда Фрейда. Мысль автора выражена ясно. Природа человека такова, что им движут влечения, удовлетворяя которые без ограничений, он не сможет жить с другими людьми, так как будет все у них отнимать, а сопротивляющихся убивать. Человек создает культуру (свод правил жизни и поведения), как средство ограничения влечений, дающее ему возможность сожительствовать с другими в мире. Такое обобщение может показаться слишком жестким, но лишь до тех пор, пока мы не вспомним реальные картины преступлений или поведения людей в военное время.
Похожий процесс течет в жизни каждого ребенка. В начале он хочет все и без ограничений. Со временем, родители учат его правилам поведения с другими людьми, чтобы согласовать его влечения с реальностью сосуществования в социуме. На пути усвоения этих правил ребенка могут ожидать неудачи. Правила могут быть не усвоены, тогда он станет асоциальным психопатом. Правила могут подавить его, и тогда вина за свои влечения приведет к неврозу навязчивых состояний.
По аналогии с этим, Фрейд считает религиозные обряды, «общечеловеческим неврозом навязчивости», хотя и делает оговорку, что «полноценной параллели» не получается, и «сущность религии не исчерпывается этой аналогией».
Почему же, вопреки ожиданиям автора книги, меня, верующего, эта аналогия совсем не обижает, а представляется вполне логичной?
З. Фрейд говорит не о религии, как личной вере, а о культурных формах, которые принимает религия в разные исторические эпохи, становясь еще одним средством принуждения к социализации. «В план этой работы не входит рассмотрение истинности религиозных учений», — пишет он, — «…ни один верующий не даст себя поколебать в своей вере этими… аргументами», так как у него «есть определенные интимные связи с содержанием религии». Но, «есть невероятное бесчисленное множество других, не являющихся верующими в указанном смысле. Они послушны культурным предписаниям, потому что дают себя запугать угрозами религии, и они боятся религии, пока они должны считать ее частью реальности, ставящей им границы».
Фрейд, будучи неверующим, не имеет опыта «интимной связи с содержанием религии», но он об этом ничего и не пишет. Он рассуждает о тех, кто «всегда умели делать религиозные предписания чисто внешними», и замечает, что «нельзя касающееся всех обязательство строить на мотиве, существующем лишь для очень немногих».
Вот почему мне легко принять его выводы. Для меня вера – средство преображения души. «Содержание религии», будучи осознанным, может в этом преображении помочь, а оставаясь «чисто внешним», является иллюзией, предназначение которой, как части культуры, сделать возможной жизнь человека в обществе.
Да и сам Фрейд в конце книги пишет, что соперничество между наукой и религией «временное, а никак не непримиримое», так как цели их общие – «любовь к человеку и ограничение страданий».